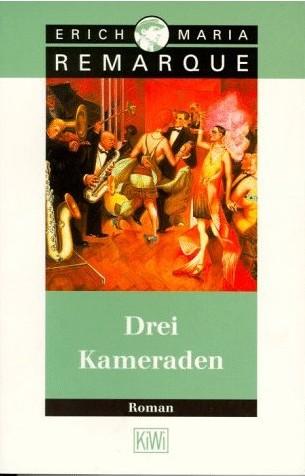thirty_one
i wish i could run!
Monday, May 9, 2011
Wednesday, April 27, 2011
Эрих Мария Ремарк. Три товарища
***
- Иногда бывает очень приятно, когда
можно ни о чем не думать. Не делать все самой. Когда можно
опереться. Ах, дорогой мой, все, собственно, довольно легко, - не надо только
самим усложнять себе жизнь!
***
- Нет
еще. Я ждала тебя.
- Но
ты не должна меня ждать. Никогда. Очень страшно ждать чего-то.
Она
покачала головой: - Этого ты не понимаешь, Робби. Страшно, когда нечего ждать.
***
Я
любил смотреть, как Пат одевается. Никогда еще я не чувствовал с
такой силой вечную, непостижимую тайну женщины,
как в минуты, когда она тихо двигалась перед
зеркалом, задумчиво гляделась в него,
полностью растворялась в себе, уходя в
подсознательное, необъяснимое само ощущение своего пола.
Я не представлял себе, чтобы женщина могла одеваться болтая и
смеясь; а если она это делала, значит, ей недоставало
таинственности и неизъяснимого очарования вечно
ускользающей прелести. Я любил мягкие и плавные движения
Пат, когда она стояла у зеркала; какое это было
чудесное зрелище, когда она убирала свои волосы или бережно и
осторожно, как стрелу, подносила к бровям карандаш. В такие
минуты в ней было что-то от лани, и от гибкой
пантеры, и даже от амазонки перед боем. Она переставала
замечать все вокруг себя, глаза на собранном и серьезном
лице спокойно и внимательно разглядывали отражение в зеркале,
а когда она вплотную приближала к нему лицо, то
казалось,
что нет никакого отражения в зеркале, а есть две женщины, которые смело и
испытующе смотрят друг другу в глаза извечным всепонимающим взглядом, идущим из
тумана действительности в далекие тысячелетия прошлого.
***
важное,
значительное не может успокоить нас... Утешает всегда мелочь,
пустяк...
***
Пока
человек не сдается, он сильнее своей судьбы.
***
Наше
прошлое научило нас не заглядывать далеко вперед.
***
Удивительно,
на что только могут польститься эти женщины, твердые как алмаз, знающие мужчин
вдоль и поперек.
***
-
Жалость самый бесполезный предмет на свете, - сказал я раздраженно.
- Она
- обратная сторона злорадства, да будет вам известно.
***
Одиночество
легче, когда не любишь
***
И
когда мне становится очень тоскливо и я уже
ничего больше не понимаю, тогда я говорю себе, что уж лучше
умереть, когда хочется жить, чем дожить до того, что захочется умереть.
***
люди
становятся сентиментальными скорее от огорчения, нежели от любви.
"Он
знал, что многим людям, носящим траур, уважение к их горю важнее, чем
само
горе..."
Меланхоликом
становишься, когда размышляешь о жизни, а циником - когда видишь, что делает из
нее большинство людей.
Поверхностны
только те, которые считают себя глубокомысленными.
Bсякая
любовь хочет быть вечной, в этом и состоит ее вечная мука
Такт - это
неписаное соглашение не замечатьчужих ошибок и не заниматься их
исправлением
Таких
женщин любят вечно. Законченные женщины быстро надоедают.
Совершенные тоже, а "фрагменты" - никогда.
Хороший
конец бывает только тогда, когда до него все было плохо
Политика
была сама по себе в достаточной мере театром, ежевечерняя стрельба заменяла
концерты, а огромная книга людской нужды убеждала больше целых библиотек.
“…я
ненавидел маслянистые расплывчатые взгляды
влюбленных, эти туповато-блаженные прижимания, это
непристойное баранье счастье, которое никогда не может выйти за
собственные пределы, я ненавидел эту
болтовню о слиянии воедино влюбленных душ,
ибо считал, что в любви нельзя до конца слиться
друг с другом и надо возможно чаще разлучаться, чтобы ценить новые
встречи.”
Забвение
- вот тайна вечной молодости. Мы стареем только из-за памяти. Мы слишком
мало забываем.
"-
Нет у меня никакого горя, - сказал я. - Голова болит.
- Это
болезнь нашего века, Робби, - сказал Фердинанд. - Лучше всего
было
бы родиться без головы"
***
Человек
всегда велик в намерениях. Но не в их выполнении. В этом и состоит его
очарование.
***
Вечными
и неизменными остаются слова любви, но как пестра и разнообразна шкала
ругательств!
Скромность
и добросовестность вознаграждаются только в романах. В жизни их используют, а
потом отшвыривают в сторону.
Покупают
дешевые и самые дорогие. Всегда есть люди, у которых водятся деньги. Либо
такие, что хотят казаться богатыми.
никогда,
никогда и никогда не покажется женщине смешным тот, кто что-нибудь делает ради
нее.
Никогда не
просить прощения, детка! Не разговаривать. Посылать цветы. Без письма. Только
цветы. Они все прикрывают. Даже могилы.
Человек зол,
но он любит добро... когда его творят другие.
Родиться
глупым не стыдно; стыдно только умирать глупцом.
"...-
Можно мне сегодня вечером взять оба парчовых кресла из вашей гостиной?
Готовая к бою, она уперла руки в толстые бедра:
- Вот так раз! Вам больше не нравится ваша комната?
- Нравится. Но ваши парчовые кресла еще больше.
Я сообщил ей, что меня, возможно, навестит кузина и что поэтому мне хотелось бы обставить свою комнату поуютнее. Она так расхохоталась, что грудь ее заходила ходуном.
Я сообщил ей, что меня, возможно, навестит кузина и что поэтому мне хотелось бы обставить свою комнату поуютнее. Она так расхохоталась, что грудь ее заходила ходуном.
- Кузина, - повторила она презрительно. - И когда придет эта кузина?
- Еще неизвестно, придет ли она, - сказал я, - но если она придет,
то, разумеется, рано... Рано вечером, к ужину. Между прочим, фрау
Залевски, почему, собственно не должно быть на свете кузин?
- Бывают, конечно, - ответила она, - но для
них не одалживают
кресла..."
"-... А
если по-серьезному, так вот что я тебе скажу, Робби:
человеческая жизнь тянется слишком долго для одной любви. Просто слитком
долго. Артур сказал мне это, когда сбежал от меня. И это
верно. Любовь чудесна. Но кому-то из двух всегда становится скучно.
А другой остается ни с чем. Застынет и чего-то ждет...
Ждет, как безумный ..."
"- Он
всего на десять лет старше меня, - небрежно сказал я.
- В наши дни это и составляет разницу в поколение, - продолжал Фердинанд. - Разницу в целую жизнь, в тысячелетие. Что знаете вы, ребята, о бытии! Ведь вы боитесь собственных чувств. Вы не пишете писем - вы звоните по телефону; вы больше не мечтаете - вы выезжаете за город с субботы на воскресенье; вы разумны в любви и неразумны в политике - жалкое племя!"
- В наши дни это и составляет разницу в поколение, - продолжал Фердинанд. - Разницу в целую жизнь, в тысячелетие. Что знаете вы, ребята, о бытии! Ведь вы боитесь собственных чувств. Вы не пишете писем - вы звоните по телефону; вы больше не мечтаете - вы выезжаете за город с субботы на воскресенье; вы разумны в любви и неразумны в политике - жалкое племя!"
"Я брел
по улицам и думал, как много я мог бы сказать и сделать, будь я
другим. Потом я направился на рынок. Сюда уже съехались фургоны с
овощами, мясом и цветами. Я знал, что здесь можно купить цветы
втрое дешевле, чем в магазине. На все деньги, оставшиеся у
меня, я накупил тюльпанов. В их чашечках блестели капли росы.
Цветы были свежи и великолепны. Продавщица набрала целую
охапку и обещала отослать все Пат к одиннадцати часам"
Monday, April 4, 2011
Friday, February 18, 2011
мой любимый отрывок из книги "Жажда жизни". про мораль и безнравственность, про красоту и безобразие в искусстве.
.... - Они называют мои книги безнравственными, - говорил Золя, - в силу тех же самых причин, по которым считают безнравственными ваши картины, Анри. Публика не способна понять, что в искусстве нет и не может быть моральных критериев. Искусство аморально, как аморальна и жизнь. Для меня не существует непристойных картин или непристойных книг - есть только картины и книги дурно задуманные и дурно написанные. Шлюха Тулуз-Лотрека вполне нравственна, ибо она являет нам ту красоту, которая кроется под ее отталкивающей внешностью; невинная сельская девушка у Бугро аморальна, ибо она до того слащава и приторна, что достаточно взглянуть на нее, чтобы вас стошнило!
- Да, да, это так, - кивнул Тео.
Винсент видел, что художники уважают Золя не потому, что он достиг успеха - сам по себе успех в его обычном понимании они презирали, - а потому, что он работает в такой области, которая казалась им таинственной и невероятно трудной. Они внимательно прислушивались к его словам.
- Человек с обыкновенным мозгом мыслит дуалистически: свет и мрак, сладкое и горькое, добро и зло. А в природе такого дуализма не существует. В мире нет ни зла, ни добра, а только бытие и деяние. Когда мы описываем действие, мы описываем жизнь; когда мы даем этому действию имя - например, разврат или непристойность, - мы вступаем в область субъективных предубеждений.
- Но, послушайте, Эмиль, - возразил Тео. - Разве народ может обойтись без стандартных нравственных мерок?
- Мораль похожа на религию, - подхватил Тулуз-Лотрек. - Это такое снадобье, которое ослепляет людей, чтобы они не видели пошлость жизни.
- Ваша аморальность, Золя, не что иное, как анархизм, - сказал Съра. - Нигилистический анархизм. Он уже давно испробован, но не дал никаких результатов.
- Конечно, мы должны придерживаться определенных правил, - согласился Золя. - Общественное благо требует от личности жертв. Я не возражаю против морали, я протестую лишь против той ханжеской стыдливости, которая обрызгала ядовитой слюной "Олимпию" и которая хочет, чтобы запретили новеллы Мопассана. Уверяю вас, вся мораль в сегодняшней Франции сведена к половой сфере. Пусть люди спят, с кем им нравится! Мораль заключается совсем не в этом.
- Это напомнило мне обед, который я давал несколько лет назад, - начал Гоген. - Один из приглашенных говорит мне: "Вы понимаете, дружище, я не могу водить свою жену на ваши обеды, потому что там бывает ваша любовница". - "Ну, что ж, - отвечаю я, - на этот раз я ее куда-нибудь ушлю". Когда обед кончился и супруги пришли домой, наша высоконравственная дама, зевавшая весь вечер, перестала наконец зевать и говорит мужу: "Давай поболтаем о чем-нибудь неприличном, а потом уж займемся этим делом". А супруг ей отвечает: "Нет, мы только поболтаем об этом, тем дело и кончится. Я сегодня объелся за обедом".
- Вот вам и вся мораль! - воскликнул Золя, перекрывая хохот.
- Оставим на минуту мораль и вернемся к вопросу о безнравственности в искусстве, - сказал Винсент. - Никто ни разу не называл мои полотна неприличными, но меня неизменно упрекали в еще более безнравственном грехе - безобразии.
- Вы попади в самую точку, Винсент, - подхватил Тулуз-Лотрек.
- Да, в этом нынешняя публика и видит сущность аморальности, - заметил Гоген. - Вы читали, в чем обвиняет нас "Меркюр де Франс"? В культе безобразия.
- То же самое критики говорят и по моему адресу, - сказал Золя. - Одна графиня недавно мне заявляет: "Ах, дорогой Золя, почему вы, человек такого необыкновенного таланта, ворочаете камни, только бы увидеть, какие грязные насекомые копошатся под ними?"
Лотрек вынул из кармана старую газетную вырезку.
- Послушайте, что написал критик о моих полотнах, выставленных в Салоне независимых. "Тулуз-Лотрека следует упрекнуть в смаковании пошлых забав, грубого веселья и "низких предметов". Его, по-видимому, не трогает ни красота человеческих лиц, ни изящество форм, ни грация движений. Правда, он поистине вдохновенной кистью выводит напоказ уродливые, неуклюжие и отталкивающие создания, но разве нам нужна такая извращенность?"
- Тени Франса Хальса, - пробормотал Винсент.
- Что ж, критик не ошибается, - повысил голос Съра. - Если вы, друзья, неповинны в извращенности, то тем не менее вы заблуждаетесь. Искусство должно иметь дело с абстрактными вещами - с цветом, линией, тоном. Оно не может быть средством улучшения социальных условий или какой-то погоней за безобразным. Живопись, подобно музыке, должна отрешиться от повседневной действительности.
- В прошлом году умер Виктор Гюго, - сказал Золя, - и с ним умерла целая культура. Культура изящных жестов, романтики, искусной лжи и стыдливых умолчаний. Мои книги прокладывают путь новой культуре, не скованной моралью, - культуре двадцатого века. То же делает ваша живопись. Бугро еще влачит свои мощи по улицам Парижа, но он занемог в тот день, когда Эдуард Мане выставил свой "Завтрак на траве", и был заживо погребен, когда Мане в последний раз прикоснулся кистью к "Олимпии". Да, Мане уже нет в живых, нет и Домье, но еще живы и Дега, и Лотрек, и Гоген, которые продолжают их дело.
- Добавьте к этому списку Винсента Ван Гога, - сказал Тулуз-Лотрек.
- Поставьте его имя первым! - воскликнул Руссо.
- Отлично, Винсент, - улыбнулся Золя. - Вы приобщены к культу безобразия. Согласны ли вы стать его адептом?
- Увы, - сказал Винсент, - боюсь, что я приобщен к этому культу с рождения.
- Давайте сформулируем наш манифест, господа, - предложил Золя. - Во-первых, мы утверждаем, что все правдивое прекрасно, независимо от того, каким бы отвратительным оно ни казалось. Мы принимаем все, что существует в природе, без всяких исключений. Мы считаем, что в жестокой правде больше красоты, чем в красивой лжи, что в деревенской жизни больше поэзии, чем во всех салонах Парижа. Мы думаем, что страдание, - благо, ибо это самое глубокое из всех человеческих чувств. Мы убеждены, что чувственная любовь - прекрасна, пусть даже ее олицетворяют уличная шлюха и сутенер. Мы считаем, что характер выше безобразия, страдание выше изящности, а суровая неприкрытая действительность выше всех богатств Франции. Мы принимаем жизнь во всей ее полноте, без всяких моральных ограничений. Мы полагаем, что проститутка ничем не хуже графини, привратник - генерала, крестьянин - министра, - ибо все они часть природы, все вплетены в ткань жизни!
- Поднимем бокалы, господа! - вскричал Тулуз-Лотрек. - Выпьем за безнравственность и культ безобразия. Пусть этот культ сделает мир более прекрасным, пусть он сотворит его заново!
- Какой вздор! - сказал Сезанн.
- Вздор и чепуха, - подтвердил Жорж Съра.
 |
| Завтрак на траве, 1863 Музей д'Орсэ, Париж |
 |
| Олимпия, 1863 Музей д'Орсэ, Париж |
Subscribe to:
Posts (Atom)